Забытые страницы Великой войны
Забытые страницы Великой войны
Смерть XX корпуса

Раздача хлеба 15 тысячам русских военнопленных перед транспортировкой в Августове (Августово) (с немецкой открытки времён Первой мировой войны)
У этой битвы, грянувшей 7 февраля 1915 года, есть несколько названий. Второе Августовское сражение, Вторая Восточно-Прусская операция, Мазурское сражение, Зимнее сражение у Мазурских озер.
Последних двух придерживаются по большей части немецкие военные историки. Остальные названия чаще встречаются в нашей историографии. Впрочем, сути случившегося на границе Пруссии и России в феврале-марте 1915-го названия не меняют. Кстати, сразу стоит пояснить, почему февраль-март. Формально Августовская операция закончилась 26 февраля. Но к этому времени началась другая – Праснышская, южнее, но тоже на границе Пруссии и России, с теми же стратегическими целями с обеих сторон. По времени они слились в одну большую драку. Географически Августов и Прасныш (ныне Августов и Пшасныш на северо-востоке Польши) разделяли полторы сотни верст, а еще героическая русская крепость Осовец (ныне – город Осовец-Крепость в Польше), которой досталось и в первом, и во втором случаях.
Суть же происходившего такова: русская Ставка во главе с великим князем Николаем Николаевичем-младшим и германский штаб Восточного фронта во главе с талантливым дуэтом генералами Гинденбургом и Людендорфом планировали в начале 1915 года примерно одно и то же. Немцы – атаковать на северо-западе. И русские – атаковать на северо-западе. Немцы этим наступлением хотели разгромить Северо-Западный фронт русских и выйти на оперативный простор центральной Белоруссии, а дальше – к Смоленску и Москве с промежуточным отсечением Варшавского выступа. Русские хотели разгромить германские силы на пути в Восточную Пруссию и северную Польшу и выйти через Варшавский выступ на прямую дорогу к Берлину.

Пленный германский офицер в крепости Осовец
Амбициозно? Еще бы! Конечно, в приказах по подготовке к наступлению в обоих штабах формулировали задачу скромнее. Для начала Людендорф предполагал окружить и уничтожить 10-ю армию генерала от инфантерии Фаддея Сиверса. Потом уже разбираться с отсеченными соединениями под Варшавой, учитывая, что параллельно в наступление пойдут силы, сконцентрированные на Карпатском направлении, где австро-венгры были усилены германской армией генерал-полковника Александра фон Лизингена. Снова – клещи. Снова – «Канны». В Русской ставке приказывали для начала разобраться с «альма матер» прусского офицерства – Восточной Пруссией.
Существенная разница планов заключалась в том, что германо-австрийский был предложен на месяц раньше, чем русский. И подготовка к их осуществлению началась в соответствующие сроки. Идею генерал-квартирмейстера Ставки генерала от инфантерии Юрия Данилова-Черного одобрили только во второй половине января. То есть тогда, когда ударный кулак в Восточной Пруссии немцы собирали вовсю. Надо добавить, что в штабе Гинденбурга знали о грандиозных планах русской Ставки одновременно с наступлением Северо-Западного фронта двинуть в Карпаты и дальше – в Венгерскую долину армии Юго-Западного. Посему изрядно спешили, дабы упредить противника. А у противника к тому времени была вот такая мега-стратегия, но не было реальных сил, чтобы ее реализовать. Уже начал ощущаться дефицит снарядов и винтовок. Уже не хватало в частях кадровых строевых офицеров и унтеров, уже полки имели в среднем не более 2/3 личного состава. Конечно, перед грядущими битвами в начале 1915 года старались усилиться, фронт пополнялся второочередными дивизиями, но все-таки ресурса явно не хватало для решения той сверхзадачи, что родилась в Ставке: в ходе одной большой операции изничтожить австрийскую армию, взяв Будапешт и добраться до Берлина.
Германцы ударили первыми. На северо-западе. Пока у нас еще формировалась новая 12-я армия генерала от кавалерии Павлом Плеве (12 пехотных и 8 кавалерийских дивизий), которой предстояло наступать, упираясь левым флангом в правый берег Вислы, на Сольдау – Кенигсберг, противник сумел сконцентрировать севернее, в районе Инстербурга, Тильзита, чтобы ударить из-под Немана в направлении Августова – Гродно. Причем, ударить двумя кулаками с традиционным уже обходом фланга. Войска перебрасывались в лесистые, прикрытые системой Мазурских озер и каналов места, где русских войск почти не было.

Отто фон Белов, германский военный деятель
Против довольно скромно укомплектованной русской 10-й армии, чьи дивизии при штатной численности должны были иметь 170 тысяч человек, а в реальности располагали 50-60 процентами, немцы собрали две армии – 10-ю (Эйхгорна) и 8-ю (фон Белова), чей суммарный потенциал по признанию самих германцев равнялся 250 тысячам штыков и сабель. И что важно, 10-я германская армия была сформирована из четырех свежих резервных корпусов.
О конкретном плане тевтонов в Августовском сражении отменно сказал военный историк генерал-майор Михаил Каменский: «Германское командование… смело разрывало свой фронт в двух сначала расходящихся направлениях. Группа Отто фон Белова должна была тяжелым молотом ударить по голове русскую армию, в то время как корпуса генерала Эйхгорна готовились свалить ее толчком в спину». Все специалисты соглашаются, что по замыслу немцев все было один в один, как во время 1-й Восточно-Прусской битвы при окружении 2-й армии генерала от кавалерии Александра Самсонова. Одно не учли германские стратеги – уже приобретенный русской армией опыт войны.
Когда планы немцев прояснились окончательно, командование русской 10-й армией, чьи позиции были растянуты более чем на 150 верст, не были прикрыты на флангах и без резервов, стало просчитывать варианты отхода. А корпуса тем временем приняли бой. Такой же приказ получил и командующий ХХ армейским корпусом генерал от артиллерии Павел Булгаков, прошедший испытания Восточной Пруссией в августе-сентябре 1914-го. Корпус состоял из трех пехотных дивизий: 28-й, 29-й и 53-1 второочередной. Уже в процессе сражения под руку Булгакова передали 27-ю пехотную дивизию соседнего III корпуса. Но прежде части корпуса вместе с частями ХХVI армейского и III Сибирского стрелкового корпусов дали соединениям 8-й немецкой армии достойный бой на первой линии обороны под Райгородом. Настолько достойный, что командующий армией генерал Сиверс даже подумывал о том, чтобы перейти в контрнаступление по центру. Но слишком плохо складывались дела на правом фланге, где его III армейскому корпусу было явно не под силу справиться с целой армией Эйхгорна, обходившей его позиции по длинной дуге.
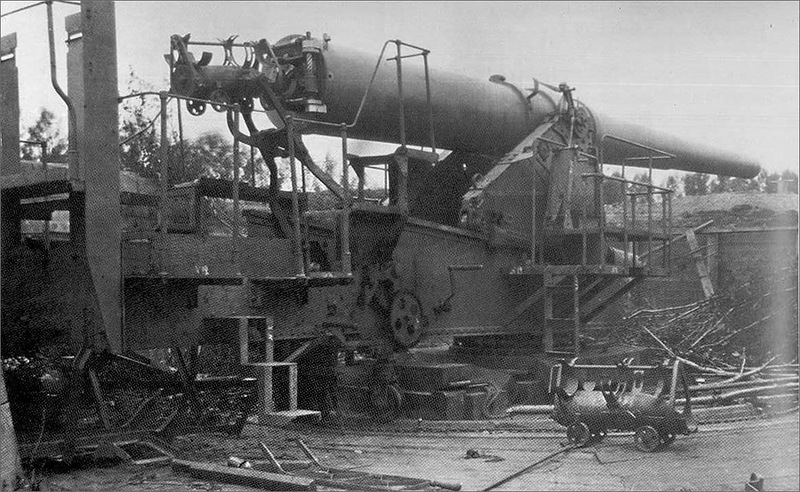
Ковно в 1915 год
Приказ об отходе получили все начальники корпусов, кроме Булгакова. Была потеряна связь со штабом армии. Торопливо, бросая правый фланг и стремясь уйти от обходного маневра Эйхгорна, двинулся к Ковенской крепости (ныне – Каунас, Литва) III корпус, западнее, вдоль реки Бобр плавно начали отходить XXVI и III Сибирский корпуса. И только ХХ продолжал сражаться, даже не зная, что за спиной и справа нет уже ни одной русской части. Приказ об отступлении на Гродно был получен только 14 февраля. Именно в это время после мощных метелей, набросавших снегу в густых Августовских лесах выше колена, грянула оттепель. Землю на редких дорогах и обочинах развезло, орудия и пулеметы пришлось нести на руках, а в полях работали специальные команды с лопатами, расчищая от сугробов путь. Полки шли, не зная, что уже отрезаны от своих плотным кольцом частей 10-й немецкой армии.
Вскоре начались непрерывные бои, растянувшиеся на восемь дней. Четыре потрепанные дивизии русских дрались с семью пехотными и одной кавалерийской дивизиями немцев при подавляющем преимуществе вражеской артиллерии.
Солдаты какой еще армии мира могут побеждать в окружении и брать пленных? 106-й пехотный Уфимский полк в двухдневном бою взял 1000 солдат и 16 офицеров, 12 орудий и 4 пулемета, да еще и полковое знамя в придачу. Днем позже 116-й пехотный Малоярославский полк захватил 500 пленных. В обще сложности 27-я и 29-я пехотные дивизии пленили более 4000 немцев. К городу Гродно из окружения пробились только два полка: 113-й пехотный Старорусский и 114-й пехотный Новоторжский. Хотя назвать их полками в полном смысле затруднительно: перед прорывом Новоторжцы насчитывали 1300 штыков, Староруссцы – 700…
Остальные пробиться не смогли. Этих остальных в четырех дивизиях, не считая нескольких сотен артиллеристов, казаков и сапер, оставалось перед последним боем менее 12 тысяч штыков.

Генерал Павел Ильич Булгаков
В этом бою дрались так: пушкари, расстреляв остатки боезапаса чуть ли не в упор по наступающим массам немцев, успели уничтожить прицелы и замки и только потом, рассредоточившись, попытались пробиться к своим. А пехота пошла в штыковую. Цепи сносили ее пулеметами и картечью, но солдаты не останавливались, падая взводами и ротами.
Только теперь генерал Булгаков дал распоряжение о сдаче в плен. Но даже в этих условиях не все захотели выполнить последний приказ корпусного. Остатки Малоярославского полка – 40 солдат во главе с полковником Константином Вицнудой, окруженные, обессиленные бессонными ночами и голодом и почти безоружные, сдаться отказались и были переколоты. И их раненые однополчане, лежавшие вокруг и видевшие это, открыли огонь последними патронами и тоже все погибли.
Общие потери ХХ корпуса за время Второй Августовской операции (убитыми, ранеными, пленными, пропавшими без вести) – более 34 000 из 45 500.
Были ошибки начальников? А как же без них. Военные эксперты, разбиравшие и продолжающие разбирать историю гибели ХХ корпуса склонны считать, что наша разведка прозевала сосредоточение армии фон Эйхгорна; что командование Северо-Западным фронтом слишком растянуло линию обороны армии Сиверса; что генерал Сиверс слишком рано оставил корпуса и отправился со штабом в Гродно; что генерал Булгаков неверно организовал отступление, ведя дивизии одной колонной и не разбросав их широким фронтом. И прочее, и прочее.
Но вот что важно: не один немецкий офицер и генерал признавались потом, что никогда не видели такой бессмысленной гибели и такого великого подвига одновременно. Что до подвига, то тут все очевидно. А вот насчет бессмысленности гибели ХХ корпуса, оставившего в последнем бою на пятачке в две квадратных версты 7 тысяч мертвых солдат, можно поспорить. На 10 дней корпус задержал две германские армии, ценой собственной гибели спас свою 10-ю армию и самое главное – полностью сорвал стратегические планы Гинденбурга на северо-западном направлении. Наступление германцев захлебнулось. А в ответ началось наше – та самая Праснышская операция, в результате которой враг был выброшен из Августовских лесов и вернулся на прежние пограничные рубежи.
Михаил Быков,
Специально для «Почты полевой».
23 марта 2015 00:00
18140
